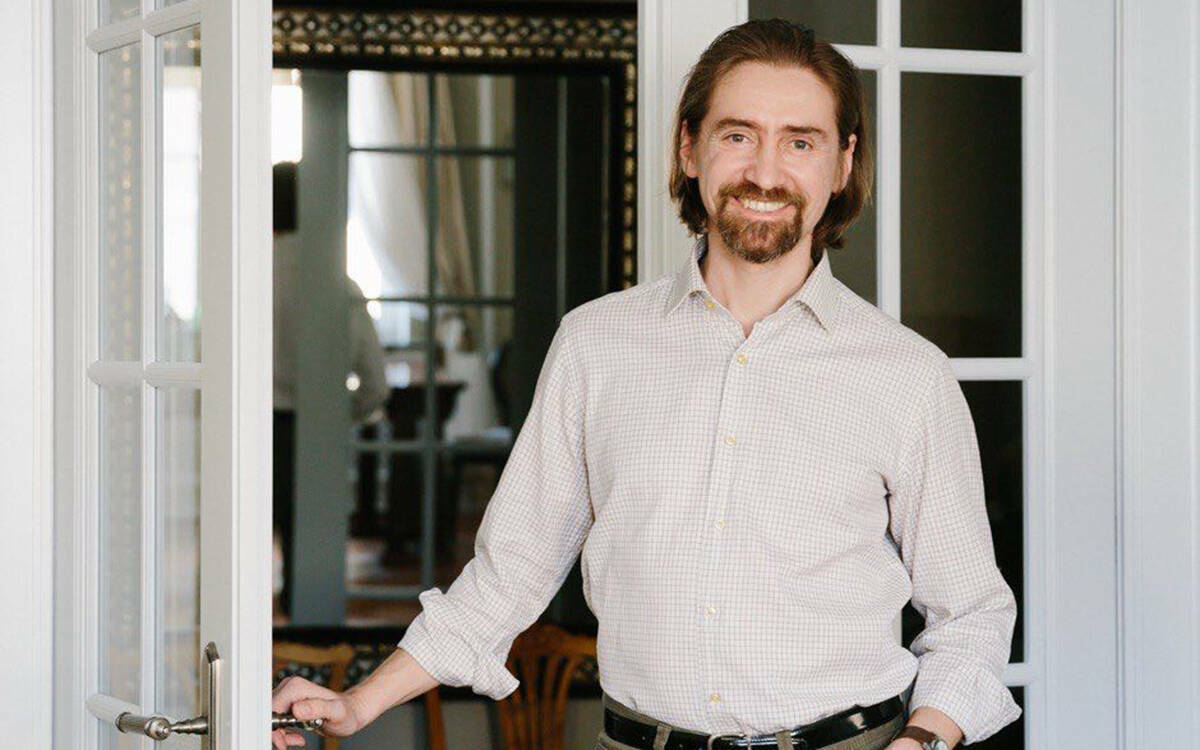
Эксперт Института развития Казани, архитектор Марсель Искандаров
Фото предоставлено Марселем Искандаровым
«Я бы предложил такую характеристику, как «хайтек-барокко»
— Марсель Мансурович, как бы вы охарактеризовали новое здание театра?
— Помимо того, что характеризует саму архитектуру здания, конечно, необходимо отметить, что сам факт строительства нового театра – это очень положительное событие. Как в архитектуре, так и в истории города.
Во-первых, начиная почти с позднесоветских времен, в Казани это один из немногих, если не первый пример, когда было спроектировано и построено здание не просто как утилитарный объект, а объект, в котором важна его архитектурная и эстетическая программа. Сам феномен строительства, я думаю, свидетельствует об очень хороших процессах в архитектуре Казани.
Здесь я хочу сделать ремарку о том, что состояние дел в архитектуре Казани уникально на общероссийском фоне. И это не случайное явление. На вопросы архитектуры, градостроительства у нас в республике, особенно в столице, обращено системное внимание. Это не простые похвалы. Я довольно много бываю за пределами Казани и могу сравнивать как с крупными российскими городами, так и с ведущими мегаполисами. Казань в этом плане едва ли не лучший, на мой взгляд, пример.

«Состояние дел в архитектуре Казани уникально на общероссийском фоне. И это не случайное явление»
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
Что касается архитектуры самого здания – это уникальный пример, когда история проектирования, конкурса и строительства была доведена до финала. В Казани это не так часто происходит, да и в России тоже. Я оставлю за скобками мои вкусы в архитектуре, стиле, подходе, буду стараться говорить максимально объективно, дать свой взгляд на архитектурные, градостроительные и эстетические качества объекта.
Если интересно, какой это стиль в архитектуре, то это явление современного характера. Хотя это не ультрапередовое здание и не самые передовые поиски архитектурной эстетики. Авторы характеризуют его по-своему, я бы предложил все-таки больше такую характеристику, как «хайтек-барокко», поскольку в нем довольно много приемов внешнего украшения, которые мало связаны с функцией и больше работают на внешний эффект и художественный образ.
Почему я говорю, что это феномен: мы отвыкли от того, что архитектуру здания порождает не только потребность в нем как функциональном объекте, а наряду с функцией важна и его художественная образность. Театр – это объект не утилитарный, не спортивный, не инфраструктурный. Здесь архитектура здания не должна быть без яркой художественной идеи. Поэтому к нему можно предъявлять такую планку требований, которую к другим объектам предъявлять просто неуместно.
В этом плане здание тоже интересно, поскольку в России строится не так много театральных зданий в современном стиле.
Мы все привыкли, что у театра Камала есть своя аура, есть своя атмосфера. С этой точки зрения его тоже имеет смысл осмыслить, потому что пока на всех нас новое здание произвело в хорошем смысле шоковое впечатление. С такой эстетикой в театральных зданиях мы не сталкивались и находимся в ожидании того, какое звучание приобретет его внутреннее пространство, когда оно заживет уже как театр, наполнится театральной жизнью, энергией актеров и всего творческого коллектива.
Пока состоялась его премьера как некоего общественного здания, как архитектурной декларации Казани. Декларация удалась – здание замечено и в России, и за границей. Поэтому нужно быть готовыми к тому, что отзывы о нем могут быть самые разные. Но если объект привлекает к себе повышенное внимание, то и требования к нему, соответственно, повышенные.

«Театр – это объект не утилитарный, не спортивный, не инфраструктурный. Здесь архитектура здания не должна быть без яркой художественной идеи»
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
«Интересно и профессионально выполнена скульптурная пластика внутренних пространств»
— Вы уже сказали, что это уникальный объект для России. В стиле «хайтек-барокко» действительно строят нечасто. С чем вы можете сравнить это здание, с чем оно может конкурировать, по вашему мнению?
— На мой взгляд, по стилистике это очень похоже на музейные здания, которые в свое время проектировал Даниэль Либескинд. Это острая композиция деконструктивистских форм. Конечно, здесь она не такая декларативная, как у Питера Айзенмана, которые проектировал в основном музеи, посвященные Холокосту, и там требовался яркий, острый, драматичный и даже трагический образ. Мне лично кажется, что такое было бы не совсем уместно для театрального здания.
Чем еще это здание хорошо. Поскольку я архитектор-педагог, мне кажется, оно сыграет еще свою роль в том, что молодые архитекторы увидят реализованными свои мечты, которые они до этого могли только проектировать. Во многом их внутренние поиски, творческие интенции были направлены в эту область, потому что им казалось, а может, и до сих пор кажется, что результат будет какой-то суперпотрясающий и мы увидим такие здания, которые оставят далеко позади традиционную, классическую архитектуру. И эта реализованная мечта, мне кажется, многих остудит в любви к подобной архитектурной эстетике.
— Вы упомянули, что это здание замечено за границей.
— Замечено, но я могу об этом судить только по отзывам моих коллег. Сказать, что я отслеживаю какую-то архитектурную периодику, я не могу.

«Есть преемственность в виде некой остроты и какого-то общего художественного нерва. Хотя стилистика, конечно, совершенно разная»
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
— Сопоставляя старое и новое здания, вы наблюдаете какую-то преемственность? Да, новый театр только начинает наполняться театральной жизнью, но есть ли внешняя преемственность? Кажется, что это два совершенно разных здания.
— Есть преемственность в виде некой остроты и какого-то общего художественного нерва. Хотя стилистика, конечно, совершенно разная.
Старое здание тоже было уникальным в рамках советской архитектуры. В чем еще эта преемственность: и там, и там есть попытка интегрировать в язык современных архитектурных форм черты местного, национального, регионального своеобразия. В старом здании это было сделано более системно и с большим количеством приемов, но и в новом это есть. В первую очередь это касается оформления интерьера.
В Управлении архитектуры Казани есть ожидание, что здание еще наполнится. У него очень интересно и профессионально выполнена скульптурная пластика внутренних пространств. Я думаю, что когда здание заработает как театр, интерьер будет дополнен и наполнен элементами более «человеческого» масштаба, которые давали бы человеку ощущение, что он находится не просто в суперсовременном здании, но и в храме искусств тоже.
Может быть, даже и хорошо, что это не было сделано одновременно со строительством здания, потому что такая задача художественно более тонкая. Шаблонные, стандартные или более очевидные на этапе архитектурного проектирования решения могли бы быть неудачными.
Проще говоря, в любом театральном здании есть традиционные атрибуты: экспозиция, посвященная истории или современным постановкам, портретные галереи, освещение, другие элементы. Мы все-таки привыкли, что каким бы ни было театральное здание, в нем есть некие паттерны, который дают простому человеку ощущение пребывания в театре.
Я думаю, что это может появиться, и тогда здание проникнется этой культурной традицией, которая свяжет его с уже более чем столетней историей татарского академического театра.

«Большая часть стоимости театральных зданий скрыта внутри: в сложном оборудовании, в сложных инженерно-конструктивных решениях, а не только во внешней отделке»
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
«Даже современные московские театры не столь многофункциональны»
— Мы делаем акцент на том, что это здание театра, но известно, что оно будет многофункциональным. Оно изначально таким задумывалось?
— Да, и это правильно. Потому что когда оживает театральное здание? Только когда в него заходят люди. Но стоит вопрос, как совместить театральную атмосферу и атмосферу конгресс-холла или выставочного пространства. Эту проблему придется решать. Проблему в хорошем смысле, потому что она может родить очень интересное звучание среды.
Поэтому пока окончательные оценки и характеристики давать рано. Думаю, что это будет интересно. Почему говорят, что это феномен? Потому что примеров нет. Даже современные московские театральные здания не столь многофункциональны и большей частью функционируют просто как театры.
Оценку давать рано, но некоторые СМИ уже свою оценку дали. В частности, многие отталкиваются от бюджетов, например – как оно будет себя содержать? Этот вопрос есть, у нас нет соответствующего опыта. Есть бытовые, утилитарные соображения. За чей счет будет мыться такое большое количество остекления? В татарском коде красивое то, что в первую очередь чистое.
Здание поставило множество таких интересных вопросов, которые можно будет решать, и это, мне кажется, многому нас научит.
Что касается содержания театра, то репертуарные, академические театры всегда были на содержании государства. Это никогда не был чисто коммерческий проект. Даже до революции были театры разного формата, и советские театры также никогда не были способны окупать себя сами, за небольшим исключением.
— По некоторым оценкам, объект обошелся в 29 миллиардов рублей. Вам видны эти деньги?
— Похоже на то. Большая часть стоимости театральных зданий скрыта внутри: в сложном оборудовании, в сложных инженерно-конструктивных решениях, а не только во внешней отделке.
— Вы говорили, что у здания есть субъективные недостатки. Какие?
— У меня в процессе конкурса были другие любимчики и другие варианты, которые, как мне казалось, таили в себе большую тонкость в обращении с национальным и региональным фактором.

«С появлением такого высокостатусного и хорошо реализованного объекта виден диссонанс между качеством среды, которая его окружает»
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
«Их отрицательное влияние на среду не в том, что они советские, а в том, что их фасады давно потеряли свой изначальный стройный замысел»
— Общую характеристику новому зданию вы дали. Давайте попробуем найти его место в том районе, где оно расположено.
— А это другая грань его феномена, потому что с появлением его на этом месте, конечно, произошел некий генетический сдвиг. Это всегда была территория невысокого статуса – не самая престижная и не самая приятная для пребывания на ней горожан. Появление этого здания даст району мощный рывок, и это тоже, кстати говоря, большой плюс градостроительной политики. Столь престижные объекты начинают выходить за границы исторического центра.
Понятно, что с появлением такого высокостатусного и хорошо реализованного объекта виден диссонанс между качеством среды, которая его окружает, и теми в хорошем смысле претензиями на архитектурную среду высокого, а может быть, даже высочайшего класса.
Поэтому вопрос в том, как пространство вокруг здания будет ему соответствовать. И здесь я рад тому, что хотим мы или не хотим, но подобного плана объект требует от архитекторов решение этого фрагмента города на ансамблевом принципе. Чем, кстати говоря, российская архитектура, в том числе казанская, не занимается уже много десятков лет – здания строятся сами по себе в отрыве от окружения. Ансамблем мы не то что не строим, о нем даже архитекторы часто не задумываются. Есть стремление, наоборот, построить здание так, чтобы выделить его на фоне окружающих в коллажном и случайном принципе.
Поэтому эту задачу необходимо будет решить. Как член Градостроительного совета Казани, я знаю, что подобного плана попытки уже предпринимаются. Проектирование новых объектов, выходящих на озеро Кабан, ведется уже с учетом нового театра. Но, как вы знаете, вокруг много зданий советского периода. Их отрицательное влияние на среду не в том, что они советские, а в том, что их фасады уже давно потеряли свой изначальный стройный замысел. Как угодно застеклены балконы, как угодно заменены рамы.
В России примеры изменения такой среды есть. Например, в Калининграде довольно комплексно реконструируются и меняются фасады советских зданий для того, чтобы придать территории какие-то ансамблевые черты. В Казани я подобных примеров еще не знаю. И это тоже не столько архитектурная, сколько административная задача.
Каким образом можно найти способ реконструировать фасады жилых зданий не для того, чтобы просто поставить галочку в отчете о капремонте, а чтобы действительно придать им какой-то иной, уже более соответствующий контексту облик, – это задача, которая перед нами будет стоять.

«Например, в Калининграде довольно комплексно реконструируются и меняются фасады советских зданий для того, чтобы придать территории какие-то ансамблевые черты»
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
«Не должно быть контраста между зданием и городом»
— Были ли вообще такие прецеденты, когда вписывали район под одно конкретное здание? Как я понимаю, сейчас стоит именно такая задача.
— Сначала скажу о возможности вписывания, наоборот, здания в этот район. Вписываться там было не во что, если честно, потому что не того качества среда, которая могла бы что-то диктовать. Она могла бы диктовать, если бы зданиям был возвращен первоначальный архитектурный замысел. Пусть они простые, без особых архитектурных излишеств, без украшений, но сами пропорции, стройность зданий и их масштаб – на это можно было бы ориентироваться, если бы они сохранили свой первоначальный облик.
Но сейчас этого облика нет, и восстанавливать его, наверное, тоже смысла нет. Поэтому вопрос: как их реконструировать административно. Второй вопрос: как это сделать с точки зрения архитектуры, то есть как найти правильный подход, баланс фасадов зданий для того, чтобы сохранить их жилой характер, не превратить их в театральную декорацию и не имитировать на них то, чего за их стенами нет. То есть чтобы жилые здания не превратились в хайтек-барокко.
— Что, на ваш взгляд, уже сейчас просится в этот район, чтобы подхватить волну этого театра?
— Уже идет эта волна, просто пока нам не видны все результаты. Во-первых, благоустройство территории, прилегающей к театру. Повторюсь, что и проектирование новых зданий ведется уже с учетом театра, и они будут высокого архитектурного класса. Следующим этапом необходимо распространить качественное благоустройство на территорию большую, чем только вокруг здания.
На мой взгляд, имеет смысл довести его до точек притяжения, откуда люди будут идти, хотя бы от ближайших остановок, чтобы высокий класс здания распространялся более органично и не было резкого контраста между этим зданием с его окружением и всем остальным городом. Чтобы здание не смотрелось чужеродным.
— Не знаю, насколько достоверные, но ходят слухи, что улица Хади Такташа может стать пешеходной.
— Разные есть варианты, эти слухи не совсем безосновательны. Они основаны на том, что Управление архитектуры Казани этим вопросом занимается и разные проектные разработки по этому поводу ведутся. Думаю, результат также не заставит себя ждать. Надо отметить, что и темпы строительства здания были достаточно уникальные.

«Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина очень переживает за архитектуру города»
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
«Новые задачи могут вызвать у архитекторов неудовольствие»
— И все-таки что делать с многочисленными хрущевками? Перестраивать или строить новые, не всегда удачные ЖК?
— Они могут быть и удачными. У меня, кстати говоря, большая претензия к внешнему облику строящихся ЖК. Они почему-то гораздо менее оригинальны. Я сейчас критикую именно архитекторов, которые их проектируют, а не власти города. Архитекторы как будто сами сузили свой арсенал, палитру художественно-выразительных средств. Все ЖК очень похожи и гораздо более скованы, чем даже советская архитектура позднего модернизма.
Я думаю, что главный архитектор Казани [Ильсияр Тухватуллина] – а она очень переживает за архитектуру города – будет ставить перед архитекторами такого плана задачи, что, может быть, даже вызовет у них некое неудовольствие. Здесь все-таки повышенные требования архитектурного плана.
А по поводу реконструкции я уже сказал, что здесь вопрос не только архитектурный, но еще и административный. Допустим, снести их вряд ли получится – куда переселять этих людей, тем более что квартиры там все приватизированные?
Поэтому, мне кажется, самый простой и очевидный способ – реконструкция фасадов. Но для этого тоже нужно настроить диалог с жителями этих домов. Представим, что будет хороший проект, который даже будет удачно реализован. Кому-то захочется поменять окно, условно говоря, с серого на зеленое, кому-то – по-другому застеклить балкон. И вроде формально это не запретишь, хотя, на самом деле, по нашему законодательству этого делать нельзя, но практика такова.
То есть здесь еще вопрос диалога с жильцами. Но примеры такие в России есть. Я думаю, что есть процедура, каким образом можно выстроить эту систему. Здесь я опять сошлюсь на Калининград, где такие задачи решались и решаются.

«У меня большая претензия к внешнему облику строящихся ЖК. Они почему-то гораздо менее оригинальны»
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
«У здания могут появиться менее поэтичные народные прозвища»
— Даже после условной реконструкции зданий и после благоустройства – сможет ли хайтек-барокко вписаться в это пространство?
— Ну, оно и не должно вписываться целиком, театр должен остаться акцентом. Поиск правильных архитектурных решений для реконструкции этих зданий – вопрос архитектурно решаемый. Их задача – не привлекать к себе внимание, от них большего не требуется. Они должны быть идеальным фоном, на котором будут сверкать эти «кристаллы льда».
Здесь я скажу, что этот образ [кристаллов льда] удался. Другой вопрос – насколько это действительно удачная метафора – оставлю открытым. Тем не менее она в здании читается и видна. В современную архитектуру подобного плана невозможно заложить одну метафору, один образ. Я думаю, что через какое-то время у здания могут появиться народные прозвища, основанные на его облике.
— «Стрелы татарских воинов»?
— По опыту могу сказать, что обычно народные наименования бывают гораздо более остроумные, не столь поэтичные (смеется).

«Поиск правильных архитектурных решений для реконструкции этих зданий – вопрос архитектурно решаемый»
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
«Возле театра появится объект современной скульптуры высокого класса»
— Московский скульптор Георгий Бутикашвили в интервью «Татар-информу» упомянул вас в контексте архитектуры Казани. Вы предлагали ему свои идеи, как можно освежить город.
— Могу сказать, что я уже услышан. У нас хорошо налажен диалог внутри профессионального сообщества, и каждому дается шанс быть услышанным. Мой посыл был двоякий. Во-первых, расширить палитру художественного развития, но это уже на совести архитекторов и их проектов.
Во-вторых, размещать объекты искусства в городе более системно и с учетом ансамблевого фактора. Чтобы объекты искусства, которые все равно появляются и будут появляться, решались в унисон, а лучше на синергетическом, взаимообогащающем уровне с архитектурой и архитектурным ансамблем. В чем это проявилось: в Институте развития Казани работают над программой, которая позволила бы интегрировать объекты искусства в город. Я также являюсь членом этой команды.
Пространство вокруг театра Камала потребует наличия неких объектов. Я думаю, что в ближайшее время один из объектов высокого класса современной скульптуры там появится. Не могу раскрывать этот проект в полной мере, но такие поиски уже ведутся.
— Даже не намекнете, что это может быть?
— Это подарок городу от одного из очень хороших скульпторов. Нужно было найти ему правильное, органичное, достойное самого объекта искусства местоположение. С точки зрения как пространства, так и смысла этого объекта искусства, то есть его художественного и семантического содержания.

«В Москве принцип архитектурных высказываний перешел критическую точку»
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
«Москва перешла критическую точку и постепенно превращается в Дубай»
— Спасибо за небольшой инсайд. Новая палитра – это и есть новое мышление, которое необходимо городу?
— Это как-то так проскользнуло, но на самом деле это революционно – вернуть застройку на ансамблевом принципе. Не когда город является суммой каких-то коммерческих проектов, а когда сам он и его пространство обуславливают облик зданий.
Ансамблевый принцип кажется совершенно традиционным, но в рамках современной архитектуры он очень революционный. Нас очень долго учили проектировать на контрасте. То есть казалось, что главная задача архитектора — это спроектировать что-то уникальное.
И вот мы дожили до такой ситуации, что облик наших городов – Казани, кстати, в меньшей степени – превращается в выставку удачных или, чаще всего, неудачных архитектурных высказываний. При этом сами мы едем в Петербург наслаждаться результатом ансамблевого принципа. В Москве тоже когда-то было так, но там этот принцип архитектурных высказываний перешел критическую точку, и город постепенно превращается в Дубай.
— Если сейчас создается программа по ансамблевой застройке, то ваши слова обнадеживают.
— Я надеюсь, что таким образом и будет. Может, это будет называться иными словами, не столь академичными и более модными. Но о самом принципе формирования гармоничной городской среды, о том, в чем суть ансамблевого принципа, конечно, задумываются даже при рассмотрении рядовых архитектурных объектов. Это вам инсайд из Градостроительного совета (смеется). На это часто обижаются архитекторы и особенно застройщики, потому что им непонятно, за что их так мурыжат на градсоветах.

«Застройка в центре города ставит планку, под которую постепенно подтягивается и периферия»
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
«Скоро мы увидим застройку центра Казани, не подражающую западной или московской архитектуре»
— Получается, что благоустройство Казани начинает выходить за рамки центра и расходиться по районам?
— Застройка в центре города ставит планку, под которую постепенно подтягивается и периферия. Феномен строительства театрального здания еще больше поднимает планку, выводит ее на качественно иной уровень. Веерным принципом это повлияет на всю архитектуру Казани.
— Какие еще есть примеры такого распространения, помимо театра Камала?
— Попробую ответить немного под другим углом. Что еще является уникальным, что влияет и определяет архитектуру? В центре Казани наконец начала получаться осмысленная застройка. Наконец найдено уникальное звучание новой архитектуры, которая строится в историческом центре. И это не просто одно уникальное здание, а целый комплекс.
Их пока не так много построили, согласованных объектов гораздо больше. Через какое-то время мы увидим уже достаточно массовую застройку центра Казани. В чем будет ее уникальность – она будет являть собой замечательный симбиоз ощущения исторического города и суперсовременной архитектуры зданий. И она по большей части не является подражанием западной или московской архитектуре.
Когда мы получим эту завершенную среду, архитектурный ансамбль, мы увидим, что красивыми могут быть не только здания сами по себе, но и пространство, которое здания формируют. Увидим, что, оказывается, оно тоже достойно того, чтобы называться красивым. Тогда к архитектуре в новых районах будут постепенно предъявляться такие же требования.
Пример того, как происходит это распространение, – качественные места общего пользования (МОП). Раньше они были свойственны только элитным ЖК, а сейчас постепенно переходят в область массового строительства. Сейчас никто не удивляется, что у подъездов не железные двери, а красивые стеклянные, что хорошо оформлены вестибюли. Еще несколько лет назад это не было распространено.
— Насколько известно, план развития территории речного порта и южнее уже расписан. Не отвлечет ли он внимание градостроителей от театра? Не останется ли театр памятником БРИКСу?
— На самом деле, в Казани гораздо больше площадок с масштабными изменениями среды, чем только район речного порта. Такое происходит и с Адмиралтейской слободой, фрагменты среды есть в центре города, правда, не такие крупные по размерам. Я думаю, что здесь опасаться нечего. От того, что в Казани будет больше примеров хорошей архитектуры, они не будут больше «отвлекать». Это не то, чего стоит опасаться.
— А чего стоит?
— Засилия коммерческого, утилитарного подхода к архитектуре, которое свойственно другим крупным городам и которое уже начисто уничтожило своеобразие, а главное – потенциал развития этих городов. Стоит опасаться того, что архитектурой начнет править только бизнес, только расчет.
Автор: Жамиль Салимгареев
Источник материала: tatar-inform.ru
