- Расскажите немного о себе, откуда вы родом? Почему решили учиться за границей?
- Я родилась в деревне Мендюш Арского района Татарстана, училась в татарской школе, а потом на татарском факультете Казанского университета.
Еще во время учебы в аспирантуре я преподавала в школах и университете татарский язык, а по субботам и воскресеньям училась в медресе Мухаммадии. Тогда случился религиозный подъем и возможность изучать ислам появилась и в России, но я хотела изучить арабский язык и решила уехать в Малайзию.
После отъезда в Малайзию в 1997 году я сначала изучала арабский и английский языки, а потом решила получить второй бакалавриат по специальности «Фикха» и «Усуль аль-фикха». Вполне естественным тогда стало и решение получить степень магистра в том же университете, но уже по специальности «История цивилизаций». Там же были написаны мои докторские диссертации и началась преподавательская деятельность.

Фото: из личного архива Эльмиры Ахметовой
- Вы прожили в Малайзии более 20 лет?
- Да, я прожила в Малайзии 23 года. Уже там я получила научную степень, преподавала, встретила своего супруга и родила детей. Мой муж – татарин родом из Уфы. К тому моменту, как мы с супругом одни за другим закончили бакалавр и магистратуру, наш сын уже свободно говорил на малайском.
В 2021 году мы переехали в Турцию. Сразу же я получила грант и уехала в Германию, где прожила 2 года. Там у меня был научный проект по татарским переводам Священного Корана во время царской империи.
Постсоветская религиозная литература давала больше вопросов, чем ответов
- Почему ваш выбор пал именно на исламские науки?
- Во время Советского Союза достоверной информации об исламе не было, поскольку это было что-то запретное и недоступное, поэтому после его распада появился большой народный интерес к исламу и религии в целом.
В это же время развивались идеи и вопросы самоидентичности, вопросы национальной идентичности татарского народа, мы активно изучали татарскую историю и культуру.
Но религиозная литература, которая начала появляться в этот период, оставляла больше вопросов, чем ответов. Книги были нелогичные. Например, те же истории Пророков преподносились почти как сказки. Поэтому я хотела изучить арабский язык, чтобы изучать достоверные первоисточники, понимать ислам из арабских трудов. Поскольку я сама училась на татфаке и изучала татарскую и восточную филологию и литературу, для меня философия и эстетика всегда были интересны и близки. Я поняла, что, не зная арабского языка, я не буду понимать Коран, а без этого – не смогу понимать ислам.
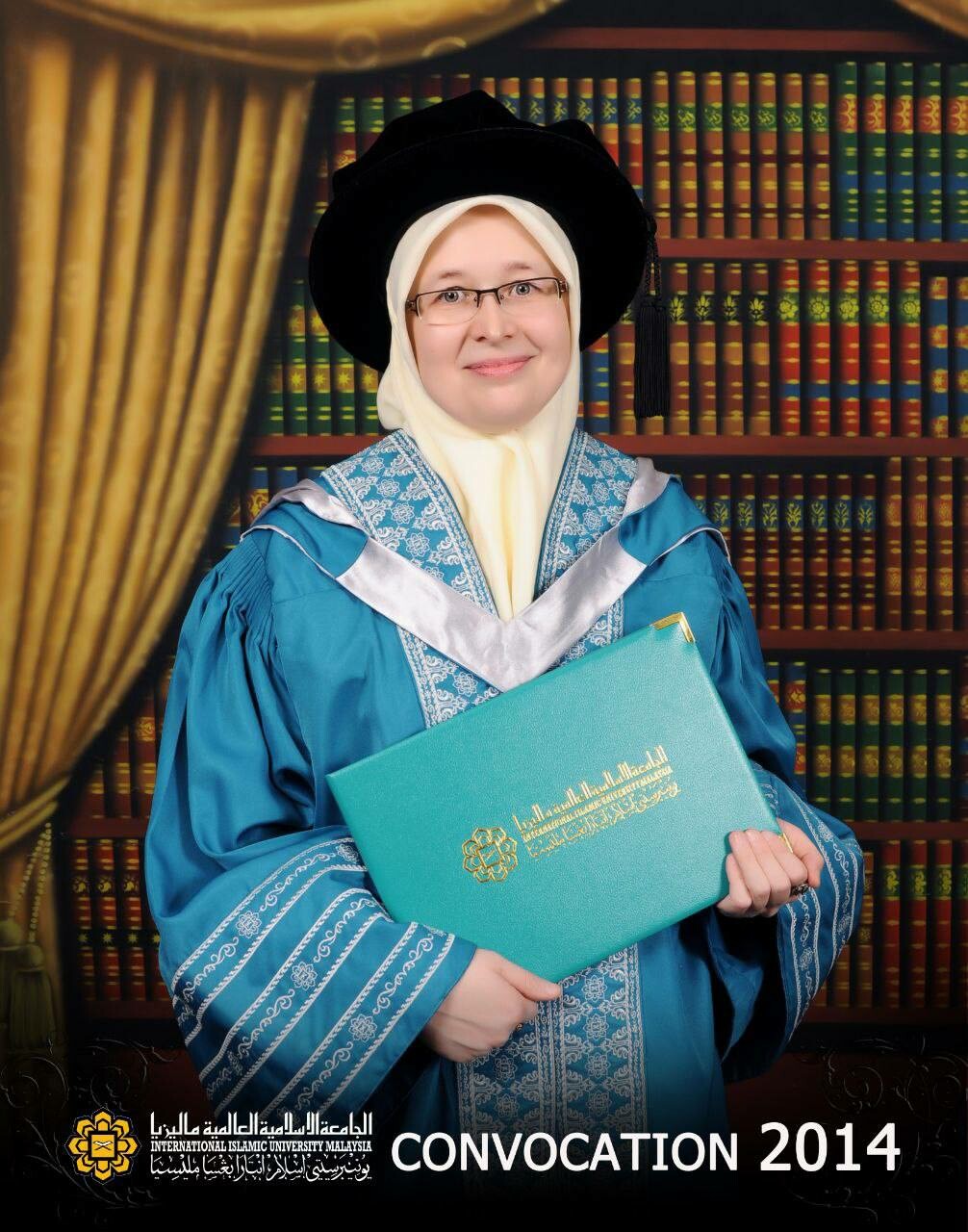
Фото: из личного архива Эльмиры Ахметовой
- Почему между вы выбрали Малайзию, а не арабские страны? Не сложно ли было жить в другой культуре, среди совершенно другого народа?
- На самом деле, жить там было очень комфортно, это очень общительные и добрые люди. Климат тоже показался нам интересным, потому что солнце там было всегда и жарко было круглый год.
Во время учебы на вечерних курсах в Мухаммадии по субботам и воскресеньям, Рамиль хазрат Юнусов иногда рассказывал нам о том, что мужчины уезжают получать исламское знание за границу, а среди женщин – никого. Поговорив с ним об этом, мы пришли к выводу, что при незамужним молодым девушкам лучше ехать не в арабские страны персидского залива, а в Малайзию. Также на выборе сказалось то, что обучение в этом международном университете велось на арабском и английском языках, а культура малазийцев более умеренная, по сравнению с арабской. Желающих уехать было трое, но ввиду разных жизненных ситуаций учиться смогла уехать только я.
Англоязычное сообщество очень интересуется историей ислама и малых народов России
- Труды на какие темы вы пишите?
- Например, в аспирантуре я изучала литературу, поэтому мои научные труды касались литературных мотивов в произведениях золотоордынских и персидских поэтов. Но в основном, круг моих научных интересов касался истории ислама в России или татарской культуры. Я пишу на английском языке, в иностранном научном пространстве очень мало трудов по истории татар или исламском образование среди татар. Особенно читателям интересны архивные источники.
Через месяц в Кембриджской университетской типографии выйдет моя новая книга о вкладе мусульманских женщин в гуманитарную науку.
- Насколько тема истории ислама в России популярна за рубежом? Что они об этом знают вообще?
- На самом деле, за рубежом очень интересны статьи и труды на исторические темы, касающиеся истории ислама и мусульман, все хотят узнать больше в России и меньшинства. Вообще они знают и наслышаны об этой теме. В Голландии даже есть ученый Михаэль Кемпер, который был учителем и позже коллегой Альфрида Бустанова. В Германии хорошо известно о российских мусульманах, малых народах и религиозных меньшинствах, а в немецких университетах выдают гранты на научные труды в этом направлении.
Сегодня есть такое направление как «деколонизация», в рамках которого научное сообщество старается изучать малые народы и их культуру, религию, языки. В Турции, например, в отличие от европейских стран, хорошо знакомы с российскими мусульманами, поскольку сюда часто приезжают наши специалисты и научные деятели.

Фото: из личного архива Эльмиры Ахметовой
- Мы знаем много имен великих татарских ученых и просветителей прошлых столетий. Есть ли такое понятие как «татарские ученые» сегодня?
- Например, в среде мусульманских ученых сегодня, особенно среди татар, чувствуется, что они не смогли выйти и восстановиться после религиозного возрождения и эпохи джадидизма. После революции у нас уже не было такого развития мусульманской мысли и деятелей, произошел откат.
После распада Советского Союза все начали переводить книги и труды ученых дореволюционного времени, но они уже не предназначались для нашего поколения, не решали проблем этого времени. К сожалению, даже сегодня у нас пока нет столько ресурсов и учёных, которые бы развивали татарскую мусульманскую мысль дальше.
Сегодня уже есть некоторые современные татарские ученые, которые живут в разных странах и пишут исследовательские работы за рубежом. Тот же Альфрид Бустанов, Диляра Сулейманова, Данис Гараев в Цюрихе или Гульназ Сибгатуллина, которая занимается переводами Корана.
Но в целом, сегодня не так много татарских ученых, пишущих труды на английском языке. Среди тех немногих, которых я могу назвать есть еще Розалия Гарипова, которая одной из первых опубликовала несколько статей о Мухлисе Буби.
В Германии знают о татарах еще со времен Первой мировой
- Знают ли о татарах в Малайзии? Что знают о татарах за рубежом?
- В научных кругах о татарах могут знать из истории ислама в России, но простой народ о татарах ничего не знает. Эта страна находится очень далеко, поэтому в целом о России у них очень мало информации. Раньше, когда у меня спрашивали, откуда я родом, никто не мог понять, где же находится Татарстан. Для малазийского университета я написала книгу по истории России, куда также добавила достаточно информации об истории ислама, мусульманах, Золотой Орде и Волжской Булгарии.
Но если говорить, что ты из Казани, то тебя все-таки могут понять, если только не перепутают с Казахстаном. Особенно много, конечно, о Казани и татарах знают в Турции, но для них нет разницы между крымскими и казанскими татарами, потому что все они так или иначе относятся к тюркам, и наши языки очень похожи на турецкий.
В Германии о татарах хорошо знают еще со времен первой мировой войны. В то время было много пленных татар и тех, кто решил потом остаться там. Еще во время Первой мировой на территории Германии начали выпускаться газеты на татарском языке, поэтому о них там наслышаны.
Еще в Европе интерес вызывает то, что я родом из России, но ношу платок, поэтому многие спрашивают о моем происхождении. Во время работы в научном институте в немецком городе Фрайбург из-за того, что я не ела мясо и иногда носила не платок, а черную шапку, некоторое время люди полагали, что я еврейка. В целом, в таких европейских странах как Австрия, Венгрия, Румыния и Польша живет много крымских татар, поэтому о нас так или иначе знают, как о российских тюрках, которые исповедуют ислам.
В англоязычном научном сообществе известны имена Курсави, Шигабутдина Марджани, Мухлисы Буби

Фото: из личного архива Эльмиры Ахметовой
- Знают ли в зарубежном научном сообществе о татарских ученых?
- Современных ученых нет, но татарских ученых прошлого знают. В англоязычном научном сообществе известны имена Курсави, Шигабутдина Марджани, Мухлисы Буби и многих других. Хорошо известны труды Мусы Бигиева, который бежал из России после октябрьской революции и написал 13 книг на арабском языке, некоторые из которых стали учебными пособиями в малазийском университете.
Также зарубежные историки или профессора гуманитарных наук знают татарских деятелей времен джадидизма – Садри Максуди, Юсуф Акчура, Мусу Бигиева и т.д.
- На университетских ресурсах вас всегда представляют как «татарская ученая из России». Это показалось мне интересным. Это была ваша инициатива?
- Да, это была моя инициатива. Еще во время учебы в Малайзии, я всегда представлялась как татарка, чтобы не закрепить за собой ассоциации с другими русскими иммигрантами. Представляясь всегда как «Tatar scholar from Russia», я закрепила за собой этот статус.
«Если язык не используется, сохранить его искусственно невозможно»
- Вы жили в Малайзии, являетесь научным сотрудником немецкого университета, университета в Миннесоте, международных университетов, а сейчас живете в Турции. Какими языками вы владеете, каким из них пользуетесь больше всего?
- Я хорошо владею татарским и английским, этими языками я и пользуюсь больше всего. В семье и с близкими мы говорим только на татарском, а английский – язык моей профессиональной и научной деятельности. Уже хуже я владею русским, турецким, немецким, арабским и малайским. Помимо английского языка, иногда я даю лекции на турецком или немецком.
Но, конечно, если язык не используется, сохранить его искусственно невозможно и это нормально. Например, мой сын родился и вырос в Малайзии, очень редко бывал в России – он очень плохо понимает русский язык, но в совершенстве владеет татарским.
Сначала идет идентичность, а потом владение языком
- Связываете ли вы татарскую идентичность с обязательным знанием татарского языка?
- Наверное, это самый сложный вопрос. Думаю, если кто-то считает себя татарином, он все равно будет из естественного интереса стремиться к изучению родного языка и татарской культуры. Национальная идентичность не рождается от владения языком, это происходит наоборот. Но, если человек не владеет татарским языком и не говорит о своей национальности, мы никак не сможем определить, что он татарин.
Но чтобы помочь подрастающему поколению в изучении татарского языка и родной культуры, нужно создавать не книги или пособия, а интерактивные ресурсы и видео. Потому что молодежь уже не читает, но видео они смотрят.

Фото: из личного архива Эльмиры Ахметовой
«После революции у нас уже не было такого развития мусульманской мысли и деятелей, произошел откат»
- Поскольку вы более 20 лет жили в Малайзии, некоторое время жили и работали в Германии и других европейских странах, интересно спросить у вас, есть ли разница между исламом в России и за рубежом?
- Да, разница есть, и это совершенно нормально. Потому что Коран – главное писание мусульман, которое никогда не меняется. Но ислам в разных регионах, где живут совершенно разные народы и культуры, немного все-таки отличается. На это влияют традиции народов, темперамент местного населения, процент мусульманского населения в конкретной местности и его адаптивность.
- А можно ли тогда сказать, что есть такое понятие, как татарский Ислам? Если да, то как он может отличаться от ислама, других народов?
- Если мы будет делить ислам на татарский, турецкий, пакистанский, малазийский и т.д. – это будет неправильно. Но мы можем сказать, «как татары понимают ислам», потому что ислам всегда остается тем же исламом, но у каждого народа есть разница в его понимании.
Я изучала разные переводы Корана на татарский язык - в разные периоды люди интерпретировали его по-разному. Сегодняшний Калям-Шариф очень сильно отличается от того же Нугмани. Но это один и тот же Коран, один и тот же ислам. Традиции и менталитет каждого народа оказывают влияние на понимание религии, но эта практика становится характерна только для конкретной местности, то есть не становится частью самой религии. Понимание зависит от того, что важно в конкретный момент времени, какую проблему решает народ.
В России очень хорошая система исламского образования

Фото: из личного архива Эльмиры Ахметовой
- А какие проблемы решают мусульмане в России?
- Опять же, здесь мы возвращаемся к тому, что в России более 70 лет религии были под запретом. Поэтому первостепенными были вопросы понимания ислама и получения религиозного знания, исламские науки у нас долгое время не развивались. Мусульмане в разных регионах сегодня решают разные проблемы уммы – условия жизни мусульман в Москве очень сильно отличаются от условий Казани, но там могут подниматься вопросы, которые могут быть неуместны для других мусульманских регионов.
Если говорить о религиозном образовании в России, то оно у нас очень хорошо развито. В основном, все исламские институты и университеты, которые начали открываться в национальных республиках сразу после распада Советского союза, были открыты татарами и все они имеют государственные лицензии или аккредитации. У нас создана хорошая структура, которая позволяет шакирдам медресе и студентам исламских университетов продолжать учебу или находить работу.
В Малайзии всегда был ислам и исламские университеты, они не испытывали трудностей ассимиляции или трудностей сосуществования с другими конфессиями, все словно шло своим чередом. А перед российской уммой стояло очень много вопросов, которые было необходимо решить: строительство мечетей, подготовка имамов, создание мусульманской среды.
- А какая проблематика наиболее актуальна в современных исламских исследованиях? Что волнует людей, есть ли какая-то тенденция?
- Если говорить о тенденции, то можно заметить одну характерную черту. Когда мы говорим про что-то исламское или изучаем, мы всегда стараемся показать, что мы не такие, как радикальные мусульмане. Мы будто пытаемся оправдаться, забывая о научной проблематике и поиске ответа на поставленный вопрос.
У нас есть психологический комплекс, из-за которого мы стараемся не показать этих проблем, но при этом доказать, что ислам - это правильная религия. Например, я редактирую статьи в журнале Мусульмане Европы научного издательства Брилль. Даже не зная автора, можно легко определить, что статью писал мусульманин – это легко читается между строк. Но, я думаю, что мы все равно идем в положительную сторону.
