Идегей – герой «замятни»
В образе Йусуфа представлен сугубо положительный герой, посвятивший свою жизнь торжеству ислама. Не менее популярный эпос «Идегей» демонстрирует нам образ противоречивой личности Идегея, причастного к распаду Золотой Орды. Что же он символизирует? Чем объясняется популярность этого эпоса, ведь народ в принципе не называет разрушителя героем?
Любой герой в мифологии, эпическом сюжете, а также в современных романах движется по аналогии с солнцем: восходит как заря, движется к полудню, переступает полдень и склоняется к вечеру, затем погружается в ночь, чтобы наутро в своем потомстве воскреснуть для нового круговорота жизни. Герои растут не по дням, а по часам, поскольку они рождаются не в собственном смысле, а возрождаются из прошлого с тем, чтобы в новой жизни донести новые символы, вы- ражающие человеческие страсти.
Идегей в два года начал «словом своим исцелять», в три года начал книги читать и дальше столь же стремительно удивлял своими способностями: стал ловким ездоком, метким стрелком, знаменитым силачом. Затем появляется намек на одну из центральных тем эпоса – защиты бедных людей:
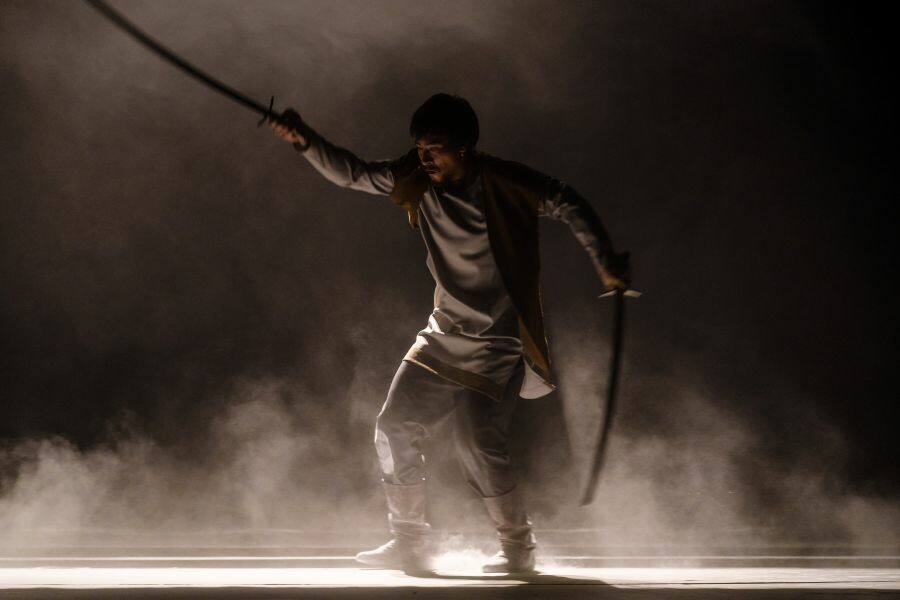
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
В одиннадцать лет – словотворцем стал,
За бедных людей – ратоборцем стал.
Мужем стал в двенадцать лет, Во всем народе славен был
И Алпамышу равен был.
Позиция Идегея как героя, т.е. алпа, очень естественна для татарских легенд. Характерно, что предания о героях заканчиваются, как правило, тем, что главный персонаж становится ханом. Мешэк Алп после жизненных перипетий женился и сел на ханский трон . В другом повествовании о Йестэ Мунке точно такой же эпилог . Кадыш Мерген победил врагов и стал ханом. Алтаин Саин Сум в конце истории со счастливым концом тридцать дней праздновал, сорок дней справлял свадьбу и затем народ его избрал ханом . В следующем дастане отец женит сына и отдает ему свой трон и т.д.
Хан олицетворяет нечто «божественное», надежду на справедливость, благополучие, осмысленность жизни. Поэтому было естественным видеть героя на троне. Но ханом мог быть только чингизид. Никакие выдающиеся качества не могли сделать личность ханом. В этом отношении характерен исторический эпизод с Тохтамышем. После Куликовской битвы Мамай бежал в Крым и Тохтамыш преследовал его с тем, чтобы окончательно добить. Воины Мамая узнав, что их преследует сам хан, перешли на его сторону без боя, т.е. в общественном сознании чингизид воспринимался как законный наследник трона в отличие от любого князя или мурзы.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
Эпос «Идегей» с первых строчек намекает на основную сюжетную линию – потерю ханом трона. Эмир Тимур посылает письмо хану с требованием отдать ему черного сокола по имени Тюкли Аяк, тем более он помог Тохтамышу в молодости сесть на престол:
«Черный сокол Тюкли Аяк, Если вблизи и вдалеке Славой он стал девяти стран,
Славой, гремящей из края в край, Сокола мне передай!».
Сокол и орел символизируют державность, а потому требование Тимура означает подчинение его власти. Возмущенный хан отвечает,что он из рода Чингиза, а хромоногий Тимур всего лишь из рода эмира Бырласа. Для Тимура это слабый аргумент, поскольку он уже захватывал владения чингизидов в Азии, не считаясь с их родословной. Не обсуждая вопрос политических интриг в ту эпоху, отметим моменты, характерные для героических эпосов.
Существенно, что потомство сокола оказывается у Тимура, с чего и начинается вся интрига эпоса. А это явный намек на то, что в конце повествования Тохтамыш потеряет власть. Образ птицы в легендах всегда несет в себе особое значение, как знак, как предупреждение и подобная символика была понятна в средние века. Не случайно в эпосе в конце повествования вновь всплывает образ державной птицы. Теперь уже во сне Тохтамыш видит, как его орел улетел от него, из чего мудрый старец делает вывод: «Значит, – не приведи Аллах, – не удержишь державу в руках, – ту, что тебе оставил Чингиз». Предсказание сбылось, и наследственное право не стало гарантией сохранения власти. Эмир Тимур и бий Идегей победили чингизида, хотя и ценой разрушения государства.
Хан, независимо от своих родовых корней, в случае неспособности обеспечить благоденствие страны, теряет свое «божественное» лицо и становится рядовым участником драмы. В следующих словах выражена квинтэссенция всего сюжета эпоса «Идегей»:
– Владыка мой хан, великий мой хан! Что останется, если земля уйдет?
Народ без земли останется!
Что останется, если уйдет народ? Страна без людей останется!
Что останется, если страна уйдет? Матери молоко останется!
А если и молоко пропадет? Язык, сосавший белую грудь, Язык сладкогласный останется! Язык пропадет, уйдут слова – Письмо мудреца останется!
Погибнет мудрая голова,
Но кровь в потомстве останется! А если потомство погубить,
Все поколение перебить, Чужеземец в стране останется!
Судьбою сраженный навсегда, Потомства лишенный и гнезда, Блеющий, как дурной баран, Хан одинокий останется!.
Поэма написана в период распада страны, смуты, междоусобицы, бесконечных дворцовых переворотов, разрушения экономики. Любое художественное произведение – это ответ на появившуюся проблему, а проблема возникает из-за отклонения от нормы. В стабильном состоянии все негативные тенденции сбалансированы позитивными, нормы и ценности стягивают как обручи общество в целостность. Но любое сопротивление норме разбивает гармонию, и сознание расщеп- ляется на противоположности, выражаясь на поверхности как борьба «божественного» и «демонического». Серьезная проблема неизбежно ведет к регрессии общественного поведения, выходом из которого является возникновение ценностей, способных трансформировать общество в иное состояние.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
Раздвоение сознания и поведения достаточно ясно видно в эпосе, но более разительный пример демонстрирует реальная судьба Ногайской Орды, в которой противоречивость натуры Идегея вылилась в трагедию, завершившуюся полным уничтожением государства. Это происходит несколько позже событий, описываемых в эпосе, но для понимания самого явления, важно, отступив от хронологии, обратиться к историческим событиям.
В эпосе Тимур спрашивает у Идегея: «Кто ты такой?», и он отвечает:
«Нугая лучезарный дом –
Вот откуда мой приход,
Вот каким я прибыл путем!».
Исторически, после распада Золотой Орды в Ногайской Орде возникают различные «партии», по-разному относящиеся к экспансии Москвы. В период активных наступательных походов Ивана Грозного отношения бея Юсуфа, отца Сююмбеки, сторонника защиты Казани и Астрахани от посягательств Московии и его брата Исмаила, настроенного промосковски, обострились до предела. Бея Юсуфа возмутило то, что Исмаил собирался поддержать русских при взятии Астрахани. Распря закончилась убийством Юсуфа и провозглашением беем Ис- маила. Москва торжествовала, а степная цивилизация агонизировала. Русский посол писал царю: «А нагаи, государь, изводятца, людеи у них мало добрых [т.е. зажиточных], да голодни, государь, необычно нагаи и пеши. Много з голоду людеи мрет… Земля, государь, их про- пала, друг друга грабит… Взяла их нужда великая, в Нагаех люди голодни». Обращения Исмаила к Москве за помощью не нашли отклика. Ногайцы стихийно устремились в Астрахань в надежде на своего союзника – русского царя. К вымиравшим «бусурманам» сочувствия не было. Исмаил жаловался царю: «Ото всех людеи тебя для есми отстал. Изначальные наших четырех царев дети и нашего отечества дети, братья наши, отстали от меня, потому что яз от тебя не отстал… Отец и брат был стареишеи Юсуф князь, и от тово тебя для отстал есми, и от племени есми отстал тебя же для, и от сынов своих отстал тебя ж для. А молвили мне: ты деи будешь русин! – да потому от меня отстали. Учинил еси меня в укоре недругом моим». Бея Исмаила начали покидать не только враги, но и соратники и даже двое сыновей откочевали в Крым к родственнику хану Девлет-Гирею. Там их ограбили, и братья еле унесли ноги, причем один из них попал в плен к донским казакам. В конце концов, они вернулись к отцу, приведя из многочисленных подданных пятнадцать человек. С.М.Соловьев по этому поводу пишет: «Так дорезывали кочевники друг друга в приволжских степях, приготовляя окончательное торжество Московскому государству». Это яркий пример того, как потерявшее гармонию сознание выливается в противостояние, а отсутствие лидера, способного выдвинуть но- вые интегративные цели, приводит к доминированию «демонического» начала в поведении, а вслед за этим и быстрой деградации народа. Герой – символ человеческих страстей, а в переломные эпохи – выражение всех противоречий, из которых он должен предложить выход. Герой – страстное желание достичь света, праведного сознания и поведения. Время смуты – время, потерянных дорог, которые могут завести в глухой лес. В такое время легко сбиться с пути, стать странником, ищущим свои корни.
Идегей несет в себе противоречия раздвоившегося мира. Традиционно герой в мифологии имеет не только человеческое, но и «божественное» или же «демоническое» начало. В сцене смерти Кара-Тиин-Алыпа есть строки о демоническом рождении Идегея:
Поводов для гордости нет:
И я родился от пэри на свет.
И ты родился от пэри на свет:
Старшего брата ты убил!
Не уходи, Идегей, подожди,
Не выслушав, не уходи, Слишком вина твоя тяжка!
Если бы досыта ты всосал
Материнского молока,
Ты б тогда милосердным был.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
Символика материнского молока очень важна в легендах. В эпосе имеется в виду не физическая мать, а причастность к родине, к своим корням. У Идегея отсутствует милосердие к своей собственной стране – вот источник проблем. Умирающий Кара-Тиин-Алып предсказывает, что Тимур, к которому бежит Идегей, не станет избавителем, а разорит страну, поработит народ, используя его силу. И к этому добавляет:
Из приказов твоих ни один
Не исполнит твой сын Нурадын. Ссориться ты будешь с ним,
И, поспорив, станешь кривым, Окривеешь на правый глаз! .
Разрыв с сыном – это тяжелое предсказание, означающее, что Идегей не может найти выхода из ситуации в стране. Внутрисемейные отношения одновременно отражают и политические интриги, тем более в эпосе они носят дополнительно символический характер – его сын не становится продолжателем дела отца. Нет наследника, нет преемственности, нет новых отношений, выводящих народ из кризиса. В этом же контексте следует понимать слепоту Идегея на один глаз, что означает односторонний взгляд на жизнь.
Идегей вначале пути оказывается обделенным родовым наследи- ем. Спасший невинного ребенка от смерти Джантимир напутствует его: «Вступай, без роду, без племени в мир!» Идегей оказывается необычайно способным и благодаря его энергичной деятельности страна начала процветать:
Казну Тохтамыша утроил он:
Было в ней озеро серебра,
Золота поднималась гора.
Благоденствовал народ:
Ел он мясо и пил он мед.
Приходил из далеких стран
За караваном караван.
У Идегея возникал естественный вопрос: «Чем я ниже тех, кто свой род от самого Чингиза ведет?».
Всякий герой выражает общие идеи, соединяющие индивидов в коллектив. Идегей это выразил так: «Свояк – не свояк, земляк – не земляк, разве не все мы – одно?». В то же время Идегей изначально оказывается в двойственной позиции. С одной стороны, он служит Тохтамышу, с другой – он изначально обделен «материнским молоком», «без роду, без племени», без поддержки сородичей и все по вине этого хана. Он по рождению оказался в другой категории социальной стратификации, поэтому для него естественно быть сторонником социального равенства и справедливости.
Тема справедливости во все времена играла заметную идеологическую роль. Парадигма власти в Тюркском каганате выражалась так: Бодун-Эль-Тора («Народ-Государство-Закон»). Орхонские надписи гласят, что главные цели «эля» заключены в обеспечении безопасности, порядка и справедливости. Причиной падения государства Бумына стал отход беков от принципа справедливости – так записано на камнях. И в последующие столетия идея справедливости была одной из ключевых в тюркских государствах. Уйгур Юсуф Баласагуни в 1069–1070 гг. написал в книге «Кутадгу билиг» («Благодатное зна- ние») о должном и недолжном в государственном управлении, опира- ясь на принцип справедливости:
Для власти во всем справедливость – основа,
И власть лишь во правде жива и здорова.
Власть хана никогда не была безграничной, он не был абсолютным монархом. Ханы обязаны были с должным уважением относиться к традициям, вере и воззрениям народа. Хан не мог принимать законы (торы) вопреки традициям. Во время выборов хана четыре человека из ведущих родов, взявшись за концы золотой кошмы, поднимали его под радостные возгласы присутствовавших при обряде и говорили: «Смотри вверх и познай бога, и смотри вниз и увидишь войлок, на котором сидишь. Если ты будешь хорошо управлять своим царством, будешь щедр и будешь поступать справедливо и почитать каждого из князей соответственно его рангу, то будешь царствовать во славу, весь мир преклонится перед твоим правлением и господь пошлет тебе все, что ты пожелаешь в сердце своем. Но если ты будешь делать противное, то будешь несчастен, отвержен и беден так, что этот войлок, на котором ты сидишь, не будет оставлен тебе». После этих слов сажали на войлок, также жену коронуемого принца и вместе с ними обоими, сидящими там, поднимали войлок вверх несколько раз и громогласными криками провозглашали: «Император и императрица всех татар». Как пишет Плано Карпини, побывавший в 1246 г. на выборах Гуюка, церемония интронизации великого хана происходила в специально возведенном по такому случаю шатре, который назывался «Золотой Ордой».
Справедливость – принцип, присущий всем мировым религиям. Это едва ли не главная смысловая и нормативная категория. Добро для людей предполагает справедливость, а справедливость не бывает без равенства. В татарских легендах и дастанах идея справедливости выражается в самых различных вариантах. Весьма любопытны случаи социального продвижения бедных, но смышленых юношей.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
В одной из легенд Алпамша много лет пас скот. Повествование о нем довольно длинное и подробное, но мы отметим только одну сюжетную линию, связанную с дочерью хана. Однажды пастуху встречается старик, который уговаривает его участвовать в соревнованиях силачей. Падишах постановил, что тот, кто сумеет три жернова мельницы поднять на гору, получит в жены его дочь по имени Сандугач (Соловей). Недолго думая Алпамша бросает стадо и отправляется на майдан участвовать в состязаниях. Над бедным пастухом все смеются. Однако он разбивает один жернов на два куска и их зажимает под мышками, два других надевает на руки и забирается на гору, где его ожидает падишах с подарками. Затем устраивают свадьбу, отец отдает за него дочь и полцарства в придачу. Дальнейшие перипетии судьбы весьма любопытны, но для наших целей сказанного достаточно. Мы здесь видим сюжет «Золушки» наоборот, т.е. не бедная девушка находит принца и тем самым приближается к «божественному», а бедный юноша оказывается рядом с троном благодаря удачной женитьбе. Подобный сюжет далеко не единичный. В баите «Ханская дочь» юноша обращается к дочери хана:
– Дочь хана, открой дверь, взгляну на тебя, Говорят у тебя стан стройный, взгляну на тебя,
– Какая тебе польза смотреть на мой стан? Ты разве не видел камыш на берегу реки.
– Дочь хана, открой дверь, взгляну на тебя, Твой лик говорят лучезарный, взгляну на тебя,
– Какая тебе польза смотреть на мой лик? Ты разве не видел вечерами полную луну.
Весь дастан построен на восхищении ее прекрасным обликом и запрете на их соединение. Юноша пытается найти пути к ней, а девушка рассказывает о препятствиях, которые надо преодолеть.
В легенде «Алтынчеч» («Златовласка») бедный юноша повстречал дочь падишаха, и они вдвоем убегают из дома. За ними организована погоня. Она бросает гребень и вырастает лес, который преодолевают преследовали. Затем Алтынчеч бросает зеркальце и появляется река. Наконец, она бросает золотое кольцо, и вырастают непроходимые горы. Девушка с юношей спасаются. В конце длинного повествования юношу за находчивость, чему способствует умная Алтынчеч, министры избирают новым падишахом.
Во всех этих случаях мы видим стремление рассказчика уравнять бедного с ханом (падишахом, эмиром) и не столько за силу, сколько за находчивость и достоинство. При этом умные дочери ханов, обладая не только красотой, но и некими волшебными достоинствами, всячески способствуют его восхождению на «вершину». В их лице «божественное» начало, лучезарный свет идет навстречу бедному, но честному и смелому юноше. Это тот контекст, в котором автор дастана «Идегей» излагает свое повествование.
Вернемся к сюжету эпоса. Идея справедливости становится принципом, разделяющим Идегея с Тохтамышем, что выражено во многих строках:
«Хан судьбу бедняка не поймет,
Недруг тайну врага не поймет.
Знатный безродного не поймет,
Сытый голодного не поймет».
Следование принципам справедливости подтачивает наследственное право чингизидов, а вслед за этим неизбежно рождается идея бунта:
«Если Сарай, если Булгар,
Если Чулман, если Нукрат,
Дети нугаев, дети татар
Свергнуть Токтамыша хотят,
Если ждет меня мой народ, –
Будем там, где народ живет!
Мы внемлем зову родной страны» .
Бунт – это отход от устоявшегося, переход за пределы сложившихся норм и ценностей, но бунт сам по себе не гарантирует трансформации общества. Идегей ясно выразил идею превосходства интересов народа и страны над наследственным правом. Эта коллизия требовала своего позитивного выхода, иначе она остается чистым бунтом с непредсказуемыми последствиями. Выходом из ситуации может быть только народовластие.
Всех собрав подневольных людей, Освободил рабов Идегей.
Юношей запретил продавать, Золото начал он раздавать.
…
Прежде был беспорядок, разброд, Пребывал без совета народ.
Выбрал опытных, мудрых мужей Учредил диван Идегей.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
Старые порядки подтачивались задолго до Идегея. Законы Чингизхана во многом определили успехи Монгольской империи и ее наследников, но со временем в разных частях Евразии они подвергалась корректировке в соответствии с особенностями страны. Это коснулось не только Китая, Персии или Центральной Азии, но и Золотой Орды. Среди заметных реформ можно назвать объявление Узбек-ханом ислама государственной религией вместо традиционного равенства всех религий. Сама государственность Улуса Джучи чем дальше, тем больше отходила от характера степных империй. Развивались города, торговля по рекам, в культуру проникали новые идеи исламского мира. Все это делало оседлую цивилизацию доминирующей. Волга и другие реки начали играть не меньшую роль, чем караванные пути азиатской части или Крыма. Причем значительная доля пшеницы в экспорте неуклонно усиливали роль земледельческой культуры. Урбанизация вела к росту ремесленников, торговцев. Вместе с этим менялись ценности и нормы поведения.
Роль степных улусов, прежде всего, Ногайской Орды, кочевых узбеков, а затем и казахов всегда была значительной в Золотой Орде, но кочевая цивилизация неумолимо уходила в прошлое. Не только шари- ат занял место нравственного кодекса Чингизхана, но и доблесть степных воинов оказалась во многом забытой, что видно из характер- ного исторического эпизода. Отец Идегея Балтычак состоял беклерибеком и он вместе с ханом потерпел поражение от Тохтамыша в 1378 г. Победитель предложил Балтычаку перейти к нему на службу, но встретил гордый отказ. Бек был казнен. Чингизхан в таких случаях отпускал с миром. Эпоха рыцарства багатуров заканчивалась. Все это имело далеко идущие последствия, поскольку на политической арене столкнулись интересы талантливых полководцев и политических лидеров с наследственным правом чингизидов. Среди наиболее ярких личностей мы видим Ногая, Мамая, Идегея, практически расставлявших по своему усмотрению ханов, но не имевших права на престол.
Ногай хитростью посадил ханом Тохту и отдал дочь свою за него. Он вел иностранные дела, поддерживая отношения с мамлюками Египта и Византией. Он даже женился на дочери Мануэля VIII Палеолога. Дочь Ногая была мусульманкой, ее притесняли и муж, и окружение. Разгневанный Ногай, послал гонца и сообщил: «Людям известно, сколько я понес трудов и тягот, самого себя я сделал причастным к вероломству и коварству, чтобы хитростью освободить для тебя трон Саин-хана». По этой причине с обеих сторон запылало пламя смуты и вражды. Хан с трудом справился с Ногаем.
Еще более заметной фигурой был Мамай, который в русских летописях появляется в связи с заговором против Тимур-Хаджи в 1361 г., хотя много раньше Ибн-Халдун называет его «одним из старших эмиров Бердибека». Мамай был талантливым полководцем и опытным политическим интриганом. Его возвышению способствовала женитьба на дочери хана Бердибека и он, таким образом, стал ханским зятем (гургеном) и вместе с тем получил большие права, кроме одного – права на трон. Он жаждал трона, настолько, что даже начал чеканить монету с титулом: «Мамай – царь правосудный» и также как Ногай или Идегей правил через своих ставленников – чингизидов. Затем он предпринял поход на Москву. В случае успеха Золотая Орда фактически оказалась бы разделенной. Его союзниками выступили рязанский князь Олег, литовский князь Ягайло, генуэзцы Крыма, предоставившие в его распоряжение хорошо обученную пехоту. Однако на Куликовом поле он был разгромлен, что положило конец его деятельности и содействовало возвышению Тохтамыша.
Об Идегее говорили, что «султаны при нем носили только имя, но не имели никакого значения». Все три выдающиеся личности были представителями Великой Степи. Именно там сохранялась доблесть воинов и политических мужей. Государственная система не могла выработать механизмов естественной инкорпорации амбициозных лидеров в структуру верховной власти, а потому раздиралась противоречием между династическим принципом, выдвигавшим слабых ханов и реальной властью эмиров, беклерибеков, беков. Нужны были политические реформы. Их требовала торговля и финансовая система, развитая культура. Золотая Орда вплотную подошла к этапу политических преобразований, но качественной метаморфозы не произошло.
Власть хана не была безграничной. Лидеры четырех «правящих кланов» участвовали в делах государства через систему коллективного правления, они представляли доминирующую часть населения, известного как «земля» в отличие от дивана, назначаемого самим ханом. Четыре бея-карачи составляли «государственный совет», выполнявший важную роль в управлении – снятие, выборы и введение в должность хана, участие в иностранных и военных делах государства. Именно эти четыре карачи при выборах хана выполняли ритуал его возвышения, поднимая три раза на кошме за четыре угла, затем несли хана вокруг палатки и помещали на трон и вкладывали в его руку золотой меч. Главный из четырех беев носил титул беклерибек – «бей беев». Он отвечал за дела в армии или, по крайне мере, управлял частью армии. Декреты хана одобряли четыре карачи. Тем не менее, это не представительный орган и народ в данном случае оказывался всего лишь послушной толпой, какой он не хотел быть в силу возникших экономических проблем в Золотой Орде. Из ведущих родов в эпосе упоминаются Барын и Шырын, которые сыграли роковую роль в судьбе Идегея.
В конце пути герой, как и солнце с зарей, должен возродиться в своем потомстве. Отсутствие ясной позиции по дальнейшему государственному устройству страны приводит к тому, что сын Идегея Нурадын оказывается в оппозиции к отцу и не находя выхода из сложившейся ситуации, выражает желание уехать на чужбину со словами:
«Найду я лучший народ!». Для его матери это трагическая ситуация:
«Ты подумай, сыночек, ты ль
Переплыть сумеешь Идиль?
Иль тебе для пути не трудна
За его берегами страна?»95.
Переплыть Идель и Яик означает перейти границу, грань, которая отделяет твой народ и других, оторваться от родной почвы, от могил своих предков, силы духа народа, которая хранится в отечестве. Чужбина горька. Нурадын избрал удел изгнанника.
Он пристал к толпе кочевой, Он кочевников стал главой, Степь да степь – вот его удел, Успокоить душу хотел.
По тем временам уйти в степь, в казаки означало стать разбойником, быть вне законов и ханской власти. Идегей страдал-горевал и решил послать за сыном послов. Однако сын, вернувшись, заявил:
«Хочешь быть мне добрым отцом?
Или ханом себя утверди,
Иль меня на престол возведи!
Или жизнь отними ты мою,
Или сам я тебя убью.
Уходи от моей руки,
Уходи, уходи в казаки!».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
По сути дела это означает катастрофу всего, что предпринял Идегей в своей жизни, по его же собственным словам: «Это страшной войны страшней». Он жил, казалось бы, для народа, убил своего хана, привел в страну Тимура, который разорил города на Волге, в том чис- ле священный Булгар и в конце жизни остался без наследника. В этой ситуации важно отметить не человеческие мотивы вероломства Идегея, что обернулось ему непримиримой позицией сына. Существенно отметить отсутствие принципа государственного устройства. По сути дела Нурадын прав, когда упрекает отца в отсутствии ясной позиции. Идегей должен или сломать систему престолонаследия чингизидов и утвердить новый принцип, или же уступить место тем, кто готов на- рушить старые порядки. Идегей не решается или же не способен вве- сти новые порядки, а потому страна раздирается противоречиями.
Любой герой – жертва, иначе он остается простым персонажем, как дровосек в сказке «Шурале», или Алпамша. Алпы как постоянные персонажи эпосов не символические герои, а богатыри. У символических героев в конце повествования наступает смерть, причем во имя народа, высших целей, они жертвенные фигуры. Идегей – жертва, но чего? Почему народ воспринимает его как эпического героя? В дастне «Идегей» нет того восхваления героя, которое мы постоянно слышим у Кул Гали о Йусуфе. Напротив, слышно явное осуждение, нпример, в следующих словах:
Ты, Идегей, – свет моих глаз,
Почему же в богатый Сарай, Почему же к вратам дворца, Ты привел Тимира-Хромца, Чтобы он разрушил наш край?
Идегей стал жертвой обстоятельств, т.е. принципа престолонаследия, который уже не обеспечивал благополучие страны. Символично, что добивают Идегея в последней сцене повествования Барын-бий, который саблей обезглавил его и Шырын-бий*, нацепивший на копье голову Идегея. Два бия, которые сажали хана на трон, убивают Идегея – символа справедливости в раздираемом противоречиями обществе. Отсеченная голова «Идегея», повернувшись к солнцу, произнесла последние слова:
«К свету будущий день не придет, Если сами к нему не придем». Голова покатилась, солнце закатилось, а заря, которая символизирует божественное начало, возвышенные ценности и нормы не взошла. Бунтарь Идегей стал жертвой обстоятельств, но не символом трансформации общественных отношений. Он всего лишь герой бунта, но не новых представлений в организации государства и общества. Золотая Орда распалась, татарские ханства лишь по инерции продолжали золотоордынские традиции вплоть до появления в Евразии новой империи – России.
Хакимов Р.С. Историческая этнология: парадигма и инструментарий. –
Казань: Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2012. – 440 с.
Научный рецензент: доктор исторических наук Салихов Радик Римович
